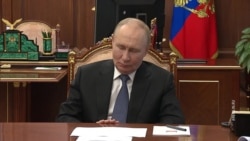Военные расходы российского бюджета по итогам первого полугодия 2025 года установили новый абсолютный рекорд – 8,48 трлн рублей ($105,59 млрд), говорят подсчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге.
Военная экономика Путина не растёт. По данным Минэкономразвития, в июле экономический рост в стране практически остановился: его темпы составили 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Экономика, очевидно, начинает страдать из-за дисбалансов, которые накопились за время войны", – считает Лиам Пич, старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. Более 20 триллионов рублей, которые государство раздало военным, контрактникам и оборонным заводам, породили иллюзию богатства.
Правительство готовится к серьезному повышению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, пишут "Ведомости". Сверстать бюджет на 2026 год с приемлемым дефицитом вряд ли получится. Если это произойдет, то кризис в гражданском секторе может принять лавинообразный характер. Источник Reuters в правительстве РФ утверждает, что повышение налогов неизбежно.
Крупный бизнес просит Владимира Путина компенсировать расходы на защиту от атак дронов и восстановление заводов. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести в законодательство механизмы компенсации убытков. Нефтеперерабатывающие заводы, предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики подвергаются налетам украинских беспилотников.
Есть ли выход у Кремля, чтобы закрыть "дыру" в бюджете, за счёт кого Кабмин будет пополнять казну, понимает ли Путин реальные проблемы военной экономики? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Дмитрием Некрасовым.
Экономист Янис Клюге подсчитал: на один день войны на протяжении последних шести месяцев российские власти тратят 47 млрд руб. Это вдвое больше, чем правительством решено добавить регионам. Путин 27 августа встречался с членами правительства. В отчётах министров война не упоминается в контексте бюджетных вопросов. Смотрите в нашем сюжете:
Издание Moscow Times публикует материал, где говорится: "военный бум, который российская экономика переживала в 23-24-м годах, окончательно сошёл на нет”. Комментирует экономист Дмитрий Некрасов:
– Бум закончился год назад. Военные расходы, которые начали разгонять в 22-23-м, действительно спровоцировали в экономике бум. Темпы роста были под 5% годовых, росли доходы. 23-24 годы были одними из самых удачных для российской экономики с 2007-го. Но это закончилось летом 24 года, когда заговорили о перегреве, загнали ставки наверх, и так далее. В экономике была полная занятость, безработица 2,3, высочайшая загруженность основных фондов, расти дальше было некуда. Меры по борьбе с инфляцией, по охлаждению экономики, и должны были привести к тому, что целый набор отраслей должен сократиться. При этом оборонка продолжает расти. Когда в экономике есть свободные ресурсы, например, свободные рабочие силы, безработные, или простаивающие фонды, которые до войны имели загрузку 60%, условно говоря, то можно без больших вложений расти, и наращивать военные расходы не в ущерб гражданскому сектору. Пришли к полной задействованности всех фондов к лету прошлого года. С этого момента продолжение роста военных отраслей возможно только за счёт перераспределения ресурсов из гражданских в военные.
Это результат целенаправленной политики правительства
Чем Центробанк и занялся, повышая ставку и осуществляя этот манёвр ресурсами. То, что сейчас идёт сокращение набора гражданских отраслей – это результат целенаправленной политики правительства по перераспределению ресурсов из гражданских отраслей в военные. Просто они перераспределяются не только административно, а рыночными методами: через стоимость денег, государственный спрос. Повышением ставки резко сокращается возможности привлекать ипотеку, а значит, строительство сокращаете. Сокращаются покупки новых машин, потому что кредит стал дороже. Далее по списку.
Как можно оценить то, что военные расходы не отражаются в публичных выступлениях чиновников?
– Военные расходы известны, они в бюджете заложены. Когда говорится, что они составляют 40 или 48% бюджета, это от бюджета Российской Федерации, он состоит отдельно. Есть пенсионный фонд, и пенсионные расходы больше, чем военные. Есть фонд медицинского страхования, социального страхования, бюджеты регионов, бюджеты муниципалитетов. Если посмотреть от всего консолидированного бюджета долю военных расходов, она будет меньше 25%. От федерального – да, но это не значит, что государство тратит половину своих денег на войну. Военные расходы растут. В новом бюджете будет объявлено о дальнейшем увеличении военных расходов, и они будут выполнены. Ресурсы для этого есть.
Господин Мишустин говорит, что в доходах бюджета 73% поступлений – не нефть и газ. 26% – от продажи энергоресурсов, остальное не энергоресурсы. В доверенном 221-м году доля составляла 36%, в 2014-м – 56%. Комментирует Дмитрий Некрасов:
– Доля добывающей промышленности в ВВП России – всего 12% ВВП. Это от федерального бюджета, а не от консолидированного. Просто федеральный бюджет забирает все деньги от нефти, поэтому в федеральном 25%, а в консолидированном в два раза меньше. Экономика растёт, а доля нефтянки в ней снижается. Это длинная тенденция. Во-первых, с этого года подняли налоги, и НФЛ, и на прибыль, и так далее. Потом, крепкий рубль значит, что в рублях цена нефти ниже, а доходы собираются с цены нефти в рублях, а не в долларах. Цена в долларах может расти, но если рубль укрепляется на 20%, то в рублях она снижается, при росте в долларах. Соответственно, это тоже ведёт к падению. И сами цены на нефть не такие высокие.
В нефти важна маржа
Надо понимать ещё одну долгосрочную тенденцию на снижение, не по воле правительства. Доля нефтегаза в доходах бюджета будет снижаться неизбежно, потому что в нефти важна маржа. Есть себестоимость извлечения нефти. На некоторых старых советских месторождениях она может быть 2,5-3 доллара с барреля, пять, семь – транспортировать. Большую часть из этой разницы забирает государство. На новых месторождениях себестоимость растёт, нужны новые затраты. И нужно окупить банковские кредиты, закупленное оборудование. Значительная часть себестоимости – выплата долгов. Там будет 25 долларов за баррель себестоимость. А в большинстве новых сложных месторождений, Восточная Сибирь, например – и 40, и 50. И государству нечего забирать. Конечно, государство может из цены 60 забрать себе 50, грубо говоря, как оно в принципе делало. Новые месторождения дорогие. Поэтому доля нефти и газа в доходах бюджета будет снижаться. В этом году правительство повысило налоги на другие отрасли, но если бы оно этого и не делало, тренд очевиден.
Источники агентства Reuters не исключают роста налогов для малого и среднего бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей попросил разделить с крупным бизнесом бремя последствий атак беспилотников. Подробнее в нашем сюжете:
Комментирует Дмитрий Некрасов:
– Бизнес здраво говорит, что если государство создаёт такие риски, как война, он не будет инвестировать в сложное оборудование на миллиарды долларов, если нет механизма страхования рисков. Нужно это прописать, чтобы стоимость инвестиций для больших проектов была адекватной. На что Минфин отвечает: "Это истории индивидуальные, прописывать универсальный механизм в налоговом кодексе не надо, а нужно решать это на уровне распоряжения премьер-министра". Что абсолютно логично.
Ущерб должен быть застрахован
Теперь расходы на безопасность, на антидроновые сетки, системы сбития дронов, дополнительную пожарную безопасность – большая статья расходов, которая будет давить на российскую экономику, дорого обойдётся. Затраты на обеспечение безопасности от угрозы всегда выше, чем непосредственный ущерб от неё. Эти затраты повесят на бизнес, они долгосрочные и размеренные. А если что-то взорвалось из-за дрона, ущерб должен быть застрахован, скорее всего, государством, за счёт налоговых вычетов. В этом им не отказали, а сказали, что нужно в индивидуальном порядке решать на уровне премьера, а не описывать процедуру в уровнях кодекса, что логично.
Агентство Reuters сообщило, что объём простаивающих мощностей на российских НПЗ установил исторический рекорд в августе: 6,4 млн тонн. Какого объёма должен быть ущерб, чтобы позиция РСПП была решительнее в глазах Минфина?
– Данные о простое 6,8 млн тонн миллиона тонн за месяц – достаточно много, в год производство где-то 130 млн т, до половины мощностей. Если цифра по году, это порядка 5%. По месяцу – возможно, вместе с плановыми ремонтами. Сейчас топливный кризис, он был в значительной степени усилен атаками дронов на НПЗ, но это не единственная причина.
Повышение ставки является причиной кризиса
Топливные кризисы происходят в России каждый август. Каждый август цена растёт на 95-й бензин на бирже где-то на 30%, падает в сентябре, к декабрю. Учтём сезон отпусков, а в этом году из-за того, что самолёты летают плохо и атаки на аэропорты, многие поехали на машинах. Основной топливный кризис – там, куда люди поехали на машинах, плюс дальние сибирские территории, которые не в первую очередь логистически обеспечиваются. Тут наложилось несколько факторов. Пока я не вижу системных причин для кризиса, атаки дронов – это медийная интерпретация событий. Скорее, повышение ставки является причиной кризиса. Люди, зная, что летом цены на бирже на бензин выше, чем на заправках, весной покупали бензин, складировали, а летом продавали и делали на этом неплохую маржу. С учётом высокой ставки, когда деньги дороги, много игроков весной этого не сделали. Если будет происходить что-то долгосрочно, то единственное разумное решение – как всегда, рыночное: отпустить цены.